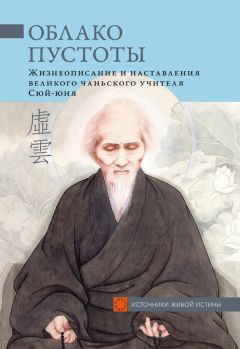Ознакомительная версия.
На следующий день мы начали восхождение на гору и достигли вершины Цзиньдин, где совершили воскурения. Я снова начал думать об этом священном месте Будды и патриарха, которое ныне совсем пришло в упадок, и о вырождении всех традиций сангхи в провинции Юньнань. Я дал обет построить хижину на этой горе, где могли бы останавливаться паломники, но мне не позволила это сделать монашеская наследственная система, преобладающая в этой местности. Я был огорчен и не мог удержаться от слез[44].
Затем мы спустились с горы и прибыли в Куньмин. Там упасака Цэнь Куаньцы, буддийский законник, пригласил меня остановиться в монастыре Фусин, где с помощью учителя Цзе-чэня я уединился для медитации, проведя новогодний период в затворничестве.
Во время моего уединения пришел монах из храма Инсян, чтобы сказать мне о том, что кто-то у них там выпустил петуха, весящего несколько цзиней, и что птица эта агрессивная и поранила других домашних птиц. Я отправился в этот храм и подробно объяснил птице правила поведения в монашеской среде и ее заповеди, а также научил ее произносить имя Будды. Вскоре петух перестал драться и сидел в одиночестве на ветке дерева. Он больше не убивал насекомых и ел только тогда, когда ему давали зерно. Через некоторое время всякий раз, когда слышал звон колокола и гонга, он шел за монахами в главный зал и после каждого молитвенного собрания возвращался на ту же ветку дерева. Его опять стали учить произносить имя Будды и в конце концов он прокукарекал: «Фо, Фо, Фо» («Будда» по-китайски). Два года прошло с тех пор, и однажды после молитвенного собрания петух встал во весь рост в зале, вытянув шею. Он трижды взмахнул своими расправленными крыльями, будто собираясь произнести имя Будды, и умер стоя. В течение нескольких дней его внешний вид не менялся. В конечном итоге его положили в коробку и похоронили. По этому случаю я сочинил следующее стихотворение:
Он драться любил по природе, этот петух,
Рвал гребешки, драл крылья, пуская чужую кровь.
Но внял запретам, и бешеный ум затих,
Ел лишь зерно, сидел на насесте один, не трогая даже букашки.
Взирал на золотой образ
И без труда кукарекал имя будды.
После трех кругов простираний вдруг отошел в мир иной,
Разве все существа отличны чем-то от будды?
В ту весну буддийские законники и настоятель Ци-мин из монастыря Гуйхуа попросили меня прервать затворничество и навестить их монастырь, где мне предстояло дать толкование «Сутры полного просветления» и «Сутры из сорока двух разделов» (Сы ши эр чжан цзин). К тому времени более трех тысяч человек стали моими учениками. Осенью настоятель Мэн-фу пригласил меня дать толкование «Шурангама сутры» в монастыре Цзечжу. Я руководил изготовлением деревянных досок, с помощью которых можно было бы напечатать тексты «Шурангама сутры» и стихотворения Хань-шаня [45]. Эти доски хранились в монастыре. Меня также попросили дать толкование заповедям, и в конце встречи главнокомандующий Чжан Сунлинь и генерал Лу Фусин пришли в сопровождении других чиновников и знати с приглашением посетить округ Дали и остановиться в местном монастыре, но я сказал: «Я не хочу жить в городах. В прошлом я дал обет остаться на горе Петушиная Ступня, но местные монахи не позволили мне это сделать. Поскольку вы защитники буддийской дхармы, мой обет мог бы быть исполнен, если бы вы выделили мне участок на этой горе. Я мог бы здесь построить хижину и принимать паломников, спасая, таким образом, сангху от гибели и восстанавливая святые места Махакашьяпы».
Они одобрили эту идею и приказали заместителю уезда Биньчуань оказать мне помощь (чтобы я мог исполнить свой обет). Для меня подыскали разрушенный храм Боюй на той самой горе. Я отправился туда с целью остановиться там, и хотя там не было жилых комнат и несмотря на то что я не взял с собой никакой еды, я принимал монахов, монахинь, мужчин и женщин из преданных учению мирян, приходивших ко мне отовсюду. Храм Боюй опустел со времен правления под девизом Цзя-цин (1796–1820), династия Цин, потому что справа от него был обнаружен огромный валун, излучавший губительные эманации «Белого Тигра» и делавший, таким образом, это место непригодным для жилья. Я хотел убрать валун и вырыть пруд, в который можно было бы запустить рыбу и другую речную живность. С этой целью были наняты рабочие, но ничего не получилось, потому что когда был удален слой земли вокруг валуна, его основания не было видно. Он возвышался на девять футов и четыре дюйма и в ширину составлял семь с половиной футов. На нем можно было сидеть скрестив ноги и медитировать. Был приглашен десятник для руководства работой по передвижению его на 280 чи влево, и более ста человек пришло, но им не удалось этого сделать, несмотря на то что они изо всех сил старались в течение трех дней подряд. После их ухода я обратился с молитвами к духам, охраняющим храм, и прочел мантры. Понадобилось десять монахов и вместе нам удалось сдвинуть валун влево. Те, кто пришел понаблюдать за нами, шумно выражали свои чувства и удивлялись, понимая, что нам помогают высшие силы. Кто-то написал на валуне три иероглифа «Юнь и ши» («Облако передвинуло валун»[46]). Представители властей и ученые, услышавшие эту историю, пришли и сделали надписи на этом валуне. По этому случаю я также написал стихотворение:
Странный огромный валун вздымается ввысь,
Мхом запечатан, кажется, с древних времен.
Дожидался меня с тех пор, как чинили небо[47].
Видя упадок чань, я желаю его поддержать [48].
Двигая горы, над глупостью Юй-гуна[49] мне ли смеяться?
Внимающий дхарме монах от сомнений избавился на тигровом холме.
С тех пор восемь ветров [50] ему не страшны,
В заоблачных высях друзья ему пара сосен.
Вершина Боюй подпирает Брахмы дворец,
Аскет золотой (Махакашьяпа) здесь оставил свои следы [51].
Желающий Дао постичь отправится
и за десять тысяч ли,
Чтоб здесь оказаться, тысячи препятствий я одолел.
Валун, годами изрезанный, поросший мхом[52],
В свете полной луны с тенями сосен играют рыбки в пруду[53].
Тот, кто с высот взирает на иллюзорный мир,
Звенящие от небесного ветра услышит колокола[54].
Я начал восстанавливать храм, чтобы принимать паломников отовсюду, и поспешил собрать необходимые для этого средства. В связи с этим я попросил учителя Цзе-чэня присмотреть за храмом и в одиночку отправился в Тэнчун (за пожертвованиями). Из Сягуаня я прибыл в Юнчан и в конечном итоге достиг Хэмушу. Дорога до него была длинной – в несколько сот ли – и оказалась очень суровой и трудной, поскольку ее не ремонтировали в течение многих лет. Однако местные жители сказали, что некий монах из другой провинции решил, мужественно преодолевая серьезные трудности, отремонтировать ее. Он не просил оказать ему финансовую помощь, принимая лишь добровольные пожертвования от прохожих в виде пищи для удовлетворения самых скромных потребностей. Он неуклонно работал в течение нескольких недель. Благодаря его усилиям почти на девяносто процентов дорога была в приличном состоянии. Чтобы выразить благодарность за совершенную им работу, население Пупяо намерилось восстановить для него храм Павлиньего Царя[55]. Однако он отклонил их предложение и сосредоточил свои усилия на ремонте дороги. Меня удивила эта история, и я решил разыскать этого монаха. На исходе дня я встретил его на дороге. Он нес мотыгу и корзину и собирался уже уходить. Я подошел к нему, соединив ладони в знак приветствия, но он лишь выпучил на меня глаза, не сказав ни слова. Я не обратил на это внимания и последовал за ним до храма, где он положил на место свой инструмент и сел, скрестив ноги, на подушечку. Я пришел выразить ему свое почтение, но он игнорировал меня и молчал. Тогда я тоже сел напротив него. На следующее утро он встал и начал варить рис, пошевеливая кочергой поленья. Когда рис сварился, он не позвал меня, но я наполнил свою чашу и поел. После завтрака он взял мотыгу, а я – корзину, и вместе мы пошли сдвигать камни, копать землю и рассыпать песок. Таким образом мы работали и отдыхали вместе более десяти дней, не обменявшись ни единым словом. В один из вечеров, при ярком лунном свете – почти как при дневном – я вышел из храма и уселся, скрестив ноги, на большую скалу. Было поздно, но я не вернулся в храм. Старый монах украдкой подошел ко мне сзади и крикнул: «Что ты здесь делаешь?»
Я медленно открыл глаза и ответил: «Любуюсь на луну».
Он спросил: «Где луна?»
«Великий лучезарный ореол», – ответил я.
Он сказал: «Если рыбьи глаза ты принимаешь за жемчужины, истина трудно различима[56]. Хватит уже радугу принимать за лучезарный свет».
Ознакомительная версия.